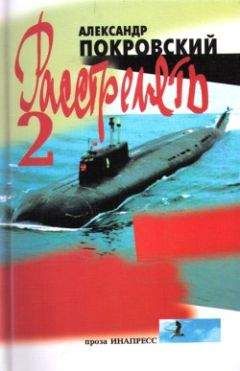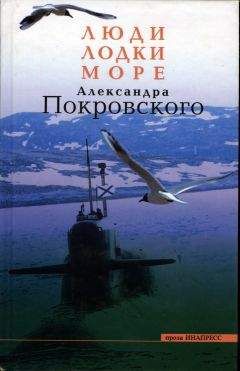Александр Покровский - Расстрелять! – II
Валерка был домашним клоуном. Он легко изображал и представлял. Это был тонкий наблюдатель и проныра с едким язычком. В нём погиб великий артист.
Когда я стал учиться музыке, у меня появился друг. Друга звали Боря. Боря тоже учился музыке. Боря был еврей. Об этом скорбным шепотом мне поведала моя мама. Она сказала: «Ты знаешь, Боря — еврей». Я не знал, что такое «еврей». Я спросил у матери. Она тоже не могла сообщить, чем же это хуже, чем «не еврей». В конце концов она сказала: «Их никто не любит». Я это запомнил и проникся к Боре самыми нежными чувствами.
Мать Бори, тётя Мара, толстая, в тонком халате, всё время что-то печатала на машинке в их маленькой квартирке.
— Деточка! — говорила она мне с каким-то душевным надрывом.— Дружи с Борей!
После этого она плакала и печатала.
Я смущался. Я не мог, когда рядом плачут и печатают. Я дружил с Борей.
Папа Бори — тощий и трагический — ничего не говорил.
Случай с тем, что «Боря — еврей», заставил меня выяснить с пристрастием и до конца, кто же тогда мы сами. Мы оказались русскими — правда, не совсем. Мы оказались метисами. «А это как что?» — не унимался я. «Это так,— объяснили мне.— Папа — русский, а мама и бабушка — армянки. Вот и получается, что вы все — метисы». Одновременно оказалось, что в нашем дворе полным-полно русских, армян, азербайджанцев, горских евреев и татар. Я расстроился, что я — метис. «Не расстраивайся,— сказали мне,— метисы — самые умные и красивые». Это как-то подбодрило. С этим я дожил до сегодняшнего дня.
То, что на карьере я тонул, дошло до нашей мамы, и мама срочно пошла и записала нас в плавательный бассейн. Мы ходили туда все втроем. «Три брата-акробата» — так нас называли. Мне тогда было шесть, Валерке — три года, а Серёга помещался где-то между нами.
В душевой бассейна как-то сразу стало понятно, что тот, кто смел и силен, тот и моется, а тот, кто не смел, тот тихо стоит на обмылках.
Серёга наблюдал это безобразие секунды три, потом он кого-то толкнул, тот упал, и мы помылись.
Мы с Серёгой быстро научились держаться на воде, Валерка же ещё долго плавал вместе с тренером, лёжа у него на спине и обхватив его руками за шею. Вид у него при этом был хитрый-прехитрый.
После бассейна мы всегда покупали «косички» — треугольные слоёные пирожки с повидлом. Во рту они таяли. Мы старались держать их там как можно дольше.
Вскоре как-то выяснилось, что в Ленинграде и Москве у нас есть родственники. Оказалось, что в Ленинграде у нас живёт ещё одна бабушка — «папина мама», а в Москве живут «дядя Витя» и «тётя Тамара». Летом нас к ним повезли. Повёз нас отец. Сначала в Москву, а потом в Ленинград. На поезде. Поезд в памяти не отложился. В памяти отложились «дядя Витя» с «тётей Тамарой», их собака Рита, их прекрасная московская квартира и их домработница Маняша. Дядя Витя был лыс, тётя Тамара приветлива, собака Рита — шумна и чувствительна, а у Маняши на кухне всегда было что-нибудь вкусненькое.
Как только мы у них появились, нас тут же усадили за стол пить чай. Мы скромно взяли по кусочку хлеба с маслом и присыпали сверху сахарным песком.
В Ленинграде после бакинской духоты нам было просто холодно, и мы вырядились в три одинаковые серые курточки.
Ленинградская бабушка встретила нас суетливо-ненатурально-радостно, и всё это было не так, как, по нашему разумению, должна встречать внуков бабушка. Мы ткнулись губами в её волосатую щёку и не испытали там ничего, кроме смущения.
Папа при бабушке был с нами груб. Наверное, ему хотелось продемонстрировать своё строгое отцовство.
Кроме бабушки у нас обнаружился дедушка, отставной майор, герой Брестской крепости с неработающими пальцами, и две тётки. Тётя Лида поцеловала меня в губы. Было вкусно и стыдно. Спали мы на полу в десятиметровой комнате, где кроме нас спали бабушка, две наши тётки и дедушка — отставной майор с неработающими пальцами.
В Ленинграде я заболел воспалением лёгких, и меня положили в больницу, в большую мальчишескую палату, где не было недостатка ни в мучителях, ни в защитниках, а за окнами шёл дождь, такой для нас непривычный.
По-моему, тогда же и закончилось моё детство…
Минуя Делос
…У них была течь. Они всплыли и, продолжая двигаться в надводном положении, попытались устранить неисправность. Полезли наверх втроем. Двоих смыло. Страховочный пояс Серёги обнаружили в корме. Видимо, его протащило по всей верхней палубе, прежде чем стряхнуть в винты…
Из дневника Серёжи Бог-ва, помощника командира корабля, пропавшего в море осенью 1983 года…никогда не будет рожать. Это мучило меня чрезвычайно. Я лежал и повторял про себя: «Она никогда не будет рожать. Она никогда не родит». И сразу же перед глазами вставало её лицо со смущённой, виноватой улыбкой, какой она ответила на мой вопрошающий взгляд там, в больнице, где мы встретились через несколько дней после операции, которую врачи всё-таки над ней проделали. Они говорили мне: «Вероятность успеха — двадцать процентов» — и прятали глаза; и меня тогда, помнится, поразило слово «вероятность». Я бы никогда не подумал, что его можно отнести к тому бесконечно тёплому, мягкому ощущению, часто сменяемому беспокойством, каким-то горловым, внутренним почти всплеском зарождающемуся во мне всякий раз, когда речь заходит о ребёнке.
Вечером того дня, когда я привёз её домой, она показала мне свой шрам. Он шёл вверх от бритого лобка, свежерозовый, напоминающий нарисованную нетвёрдой детской рукой лесенку — неровную, кривенькую.
Мне почему-то захотелось её потрогать. Я потянулся, она быстро перехватила мою руку, а потом осторожно, сбоку подвела и приложила мой палец к небольшому шрамику-перекладинке, и я почувствовал, какой он горячий, живой, дрожащий, и мне передалась эта дрожь, и сразу стало холодно, по телу пошли мурашки, и я подумал о том, что где-то глубоко под ним, под этой гладкой, словно молодой лёд, слюдяной поверхностью шрамика, совсем недавно побывал скальпель хирурга, и всё это лежало на операционном столе разъятое, и из него торчали зажимы, а потом всё это сшили, собрали, привели в чувство, и это всё снова стало моей женой — Майей — новой Майей, отделённой от той прежней целой вечностью, носящей название «операция», и к ней, новой, чужой, может быть выглядевшей словно бы оглушённой, с большими, чуть медленнее, чуть дольше обычного перемещающими свой взгляд с предмета на предмет глазами,— к ней, новой, ещё нужно привыкнуть.
Какое-то время на перекладинках шрама ещё будет выступать нежная сукровица. Какое-то время Майя всё ещё будет вспоминать ту боль и рёв женщин и будет говорить, что на трубах, скорее всего, образовались спайки, потому что вещество против образования этих спаек нужно было вводить в трубы очень осторожно, а его всем вводили кое-как, и девки выли, и делала всё это женщина, а женщины-гинекологи — ужасно грубые, садюги, и лучше, если врач — мужчина: он всё делает осторожно, нежно и очень сочувствует.
А я тогда гладил её по голове, как ребёнка, целовал куда-то, скорее всего, за ухо, и она, какая-то совершенно потерянная, говорила тогда, что врачи настоятельно рекомендуют через несколько дней после операции заниматься любовью, потому что именно в это время, скорее всего, и возможно зачатие.
И мы, конечно же, сейчас же посвятили себя этому занятию, стараясь при этом как можно меньше беспокоить рану, а когда это было особенно больно, она кусала губы, как-то по-особенному выгибалась, застывала, выгнувшись, и сильно сжимала мне кисть левой руки, а я замирал, чтоб продолжить по первому же её призыву.
И ещё Майя старалась принять какие-то особенные позы, наиболее благоприятные для беременности, которые, как оказалось, ей советовали принимать подруги по несчастью, которым тоже где-то советовали, и всё это происходило у нас очень серьёзно, и так же серьёзно ожидался результат.
Господи! Какие же мы всё-таки были идиоты! Маленькие глупцы, сражавшиеся с природой, не верующие в то, что она никогда не меняет своего решения, в то, что раз она обмолвилась: «Нет!»,— то это уже навсегда, что между нами и ребёнком уже возведена Китайская стена, и можно биться в неё с одинаковым успехом хоть тысячу раз, а можно не биться, можно с последним ударом прижаться щекой к безразличной многотонной кладке и почувствовать то бездонное отчуждение всего этого мира, какое можно ещё испытать разве только в безводной пустыне, припав щекой к гладкому морскому голышу, неизвестно откуда взявшемуся в этой местности, перевернув его, конечно же той стороной, что обращена к песку и помнит всё ещё все приметы ночи. (Метафора всё время ускользает, вернее было бы сказать, она всё время использует своё основное качество — таять, истончаться, на лету истлевать в воздухе. У неё тоненький серебристый хвостик, за который не ухватиться, а может быть, подспудно и не хочется ухватиться, поскольку невольно не хочется достичь точности, страшновато её достичь.)